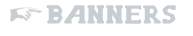Ухмыляясь в лицо Скримджеру, подтащившему его за воротник ближе, Лестрейндж едва соображает, о чем тот говорит. Даже оскорбления того, кому род Лестрейнджей принес клятву верности, пропадают втуне, потому что в голове Рудольфуса звенит туго натянутая струна, грозящая вот-вот лопнуть. Звон назойливый, на одной бесконечной ноте, но в этом звоне Лестрейндж ясно слышит зов, на который откликается тварь, угнездившаяся у него внутри и теперь ворочающаяся, чтобы устроиться поудобнее.
Что там ему до угроз аврора, что ему до слов, которые могли бы лишить его опоры, если бы достигли цели... Этой цели больше не существует: Руфус Скримджер обращается к тому, кто уже отплыл от берегов адекватности и взял курс на водовороты безумия.
Необходимость скрываться для Рудольфуса значила и необходимость скрывать себя настоящего от чужих глаз, лишь изредка позволяя проявиться граням его нрава, давно балансирующего на узкой кромке между нормальностью и психопатией. Сейчас же в этой необходимости нужды больше нет, и Лестрейндж позволяет себе прочувствовать каждый миг этой свободы, корчась, когда по мышцам пробегает судорога после Пыточных чар.
Скримджер отпускает его, и Рудольфус, яростно улыбаясь этой свободе, тяжело опускается на пол, глядя прямо в лицо человеку, который тоже прямо сейчас - Лестрейнджу так кажется - находится на самой границе.
Это, разумеется, не порождает ни симпатии, ни взаимопонимания, Рудольфус больше всего на свете хочет вырвать горло Руфуса Скримджера и топтать его труп, пока каждая кость не будет переломана, изломана, уничтожена. Ему даже палочка не нужна будет...
Пыточные озаряют камеру маггловской гирляндой, Рудольфус видел такую однажды, тот рейд был хорош, удачная охота...
На сей раз Скримджер учитывает свой опыт, круциатусы короткие, будто безумный телеграфист забывает о тире, используя только точки.
Лестрейндж упивается этой болью, тварь пожирает ее, насыщается, становится сильнее, принимая эту последнюю жертву от человека, который несколько лет кормил ее чужими страданиями. Каждая мышца, каждый дюйм тела Рудольфуса горит, и он позволяет огню пройти сквозь себя, подпитывая его ярость и ненависть, сейчас сконцентрировавшуюся на одном человеке. Эта боль выжигает в нем последние остатки того, кто был не только Пожирателем Смерти, это боль перерождения, и Рудольфус принимает это, рождаясь заново в боли, ярости и ненависти.
Он выкрикивает что-то нечленораздельное, когда может вздохнуть, когда челюсть не смыкается от судорог Пыточных чар. Что-то о смерти, что-то о проклятии, что-то о каре, наверняка аврор Скримджер слышал или еще услышит немало подобного.
Наконец Круцио прекращается.
Лестрейндж хрипит сквозь сорванный голос, сплевывает длинную тягучую слюну, приподнимает голову, находя горящим взглядом врага. Первый удар заставляет его снова приложиться затылком о каменный пол, второй вбивает в камень.
Он дергается, но руки едва слушаются, все его крепкое, тренированное тело бывшего загонщика сейчас не больше, чем кусок окровавленного, измятого мяса. Это бессилие только еще сильнее добавляет градуса в лестренджевскую ярость: он не привык, не желает чувствовать себя таким. отвергает реальность, где с ним, с лордом Лестрейнджем, главой рода, могло произойти нечто подобное.
От очередного удара Скримджера челюсть хрустит, Лестрейндж едва чувствует очередной источник боли на общем фоне, но дискомфорт заставляет его сплюнуть. Тягучая слюна, смешанная с кровью, его невероятно чистой кровью, тянется от разбитых губ до осколка зуба.
Рот наполняется медным привкусом, Рудольфус снова сплевывает, на сей раз в сторону Скримджера.
- Ты не посмеешь меня убить, - скрежещет он через силу, сглатывая собственную кровь. - Ты предал себя, Скримджер. Предал то единственное, что имеет значение. Ты умрешь за это предательство... Ты, а не я.