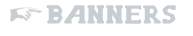Он закрывает глаза, потому что свет его ослепляет. Рывки шкуры, медленно ползущей куда-то по неровностям земли стойбища, укачивают не хуже, чем раздающееся вокруг пение - без слов, одна мелодия, незнакомая, чужая.
Он как будто лишился тела, а точнее - разбился на мельчайшие частицы, которые теперь рассеиваются вокруг, оседают на босых ногах девчонки, на перьях, вплетенных в седые волосы шамана...
Он хочет вернуться обратно, в свое тело, которое - вот оно, совсем рядом, знакомое и незнакомое одновременно, кажущееся со стороны слишком выношенным пальто, вышедшем из моды, но из-за привязанности владельца хранимым в гардеробной - но не может этого сделать. Будто маггловский воздушный шарик на веревочке, Лестрейндж может только волочиться следом за импровизированными санями в сторону, куда движется поющая процессия.
Закрыв глаза, он продолжает видеть - причем намного ярче, намного четче.
Девчонке явно тяжело, но никто ей не помогает - наверное, что-то вроде ее обязанности, думает Рабастан, который все еще чувствует на себя взгляд огромного глаза, заглядывавшего в чум.
Но под серым бескрайним небом, лишь на юге отливающим фиолетовым, это ощущение постепенно проходит, размывается.
Мужчины, одетые в кожу и мех - зачем, почему, ведь так невыносимо жарко, думает Лестрейндж, еще помня то, что чувствовал там, в чуме - ждут их у чего-то, что напоминает ему невысокий насыпной холм из камней, появившийся с другой стороны мыса.
Холм внутри пуст, а перед ним стоит лодка - Лестрейндж, никогда в жизни не видевший такой лодки, моментально догадывается, что это, но эта догадка проходит как бы мимо него, оставляет прискорбно равнодушным.
Ему так мало дела до того, что будет с его телом, что это, наверное, послужило бы даже поводом для особенно интенсивной рефлексии, запомни он это безразличие.
Четверо мужчин, чьи лица раскрашены синими кругами, поднимают за углы шкуры, на которой лежат Вэнс и Лестрейндж.
Что за животное может быть таких размеров, думает Рабастан под мерное покачивание.
Их, также на шкуре, опускают в лодку, а затем мимо тянется процессия мужчин племени, каждый из которых кидает в лодку что-то, что до сих пор нес в руках. Выстроившиеся вокруг лодки женщины все также тянут заунывную мелодию, не прерываясь ни на миг.
Девчонка куда-то исчезает, и Лестрейндж уже не уверен, что она существовала - ее ли руки гладили его тело, втирая жир, ее ли соски касались его спины, когда она прижималась к нему. Все это - воспоминания, тусклые, размазанные по пустеющей пластине его памяти, с которой исчезают царапины и занозы, оставленные наиболее болезненными отрывками прошлого.
На смену вечной скрытой напряженности приходит умиротворенность - если смерть такова, думает Лестрейндж без каких-либо эмоций, он был дураком, раз столько времени избегал ее.
Лодку задвигают в холм.
Это склеп, местный его аналог, догадывается Рабастан, пока проем, через который в холм можно попасть, быстро заваливают камнями.
Шаман отдает приказы - грубые, резкие звуки его голоса хорошо разносятся над каменистой тундрой, но в холм долетают едва слышными, а вскоре затихает и пение.
Племя уходит, оставляя их между пустыней и морем.
Лестрейндж не знает, сколько времени пролежал без движения в этом примитивном склепе, убаюканный чем-то, что делали с ним последнее время, но когда он приходит в себя, он больше не ощущает жара внутри себя - впрочем, не ощущает и убивающего холода. Отбрасывая с лица тяжелую шкуру, глубоко вдыхая, он тут же раскаивается - вокруг стоит нестерпимая вонь прогорклого сала.
Еще не успевая шевельнуться, он понимает, что рядом с ним кто-то лежит - и следом же приходят воспоминания.
- Вэнс, - зовет он, шаря руками вокруг и исключая на время мысли о том, едва ли формат их отношений подразумевает такое плотное взаимодействие без участия хотя бы клочка ткани за исключением тяжеленной вонючей шкуры. Произнесенное имя кажется пустым, лишенным содержания. Не подходящим мертвым.
Там, где шкура с него съезжает, холод напоминает о себе, зато Вэнс в коконе их импровизированного савана удивительно горяча.
Решение растормошить ее наощупь - определенно, не лучшее решение в его жизни, зато он наконец-то удостоверяется, что она дышит, а тепло ее тела не является последним, отданным замерзающим организмом.
Зато после ее живота его пальцы наталкиваются на круглый, явно искусственного происхождения предмет, в котором что-то булькает от толчка.
Пересохший рот мгновенно напоминает о себе, будто жажда ждала этого момента.
Лестрейндж перетягивает к себе фляжку, вытаскивает пробку и делает жадный глоток, запрокидывая голову, насколько позволяет низкий потолок наваленного над лодкой холма.
Сначала ему кажется, что это вода - но это не вода, и, что бы там это не было, это действует отрезвляюще, будто несильный короткий Круциатус, заставляя каждую мышцу, каждый нерв в теле напрячься и выдать максимум возможного.
Лестрейндж роняет ополовиненную фляжку рядом с Эммалайн, ударом ноги выбивает несколько камней помельче, переворачивается и выползает из захоронения, обдирая локти о край лодки.
Шаман сидит перед холмом, поджав под себя ноги, а на его коленях на белоснежном куске неопознанной Рабастаном шкуры лежат два грубо сделанных ножа. Лезвия у обоих - длиной с предплечье взрослого мужчины, и пока Лестрейндж поднимается на ноги, он не может оторвать взгляд от блеска кромки лезвия под существенно сместившимся к горизонту солнцем.
Шаман указывает на кучу тряпья, и впервые Лестрейндж чувствует нечто вроде благодарности. Натянув меховые штаны подлиннее, он указывает на ножи, неосознанно пародируя шамана:
- Что это?
- Вы убивать. Приносить голову абасы, - скрежещет шаман.
- Что такое абасы? - интересуется Лестрейндж, недоумевающий, куда делось стойбище.
- Абасы, - следует короткий ответ.
Лестрейндж, в котором силен дух рэйвенкло, хочет знать больше - но в то же время ему хочется пойти и найти абасы. А потом - о да! - отрезать ему голову. Что бы ни было во фляжке, должно быть, то же самое находит и Рудольфус на дне своих бутылок.
- Мы убьем абасы, - и кровожадность распускается в его тоне будто цветок.
Шаман равнодушно кивает, снова тычет пальцем перед собой.
- Еда, - бросает коротко, и Лестрейндж видит, что перед шаманом в самом деле стоит миска с засохшими потеками крови, в которой навалены неаппетитные куски чего-то, что очень отдаленно можно принять за мясо.
- Есть, - недвусмысленно намекает шаман, пододвигая миску к ногам Вэнс. - Есть. Пить. Потом убивать абасы.
Нехитрый план.