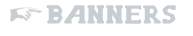В темноте он видит так же хорошо, как и днем, и видит куда лучше, чем тот, кто считал, что в самом деле способен его удержать.
В темноте, по-прежнему жаркой, напоенной жаром, он чувствует себя уверенно, ему не нужны ни звезды, ни солнце, чтобы ориентироваться, и как и сказала женщина, чьи голые ноги переплелись с его во сне, их ждут.
Эмиссар немигающе смотрит на подходящую женщину, не двигаясь с места, пока она не устраивается перед его горбом, в высоком кожаном седле, широком, твердом. Родерик подходит следом, связывая лямки обоих рюкзаков, перекидывая их чрез шею верблюда, а затем забирается следом, приняв руку женщины.
Верблюд, не подавая вида, что двойная тяжесть его хоть сколько-то беспокоит, поднимается на ноги, сперва выпрямляя задние ноги, а затем - передние, и их встряхивает, бросает друг к другу, но седло держится, неизвестно кем и неизвестно когда надетое на убарского эмиссара.
Ночная пустыня, вопреки ожиданиям тех, кто боялся сгинуть в ней без следа, еще более безжизненна: закатившееся солнце отнюдь не пробудило тех, кто прятался днем. То, что сокрыто в песках Аравии, чуждо этому поверхностному представлению о жизни, и в Убаре знают, как тонка эта грань между живым и мертвым.
Покачиваясь, верблюд шагает по песку - верблюд это лишь одна из его масок, в которой он задержался, чтобы служить Убару, но он помнит, как летал над пустыней, широко раскинув мощные крылья, как вынюхивал заблудшие души, щеря шакалью пасть в зубастой ухмылке...
в темноте верблюд шагает мимо едва виднеющихся из-под песка остовов давно истлевших джипов, изъеденных ржавчиной и солнцем. Там, под футами песка, похоронены выбеленные кости в клочьях истлевшей одежды, среди одной из куч костей наверняка до сих пор похоронена платиновая франтоватая зажигалка...
Солнце поднимается и опускается вновь, ночь сменяет день, иногда ночь длится слишком долго, иногда - не длится и получаса. Времени здесь нет, как нет и жизни - смерть есть вечность, время в посмертии не имеет значения, и поэтому оно ведет себя здесь странно, будто в воспоминаниях дряхлого старца, уже плохо представляющего, что из его воспоминаний реально, а что - лишь игра воображения.
Верблюд идет вперед, потому что в этом его единственное предназначение - он проводник, эмиссар, и далеко не всем он выходит навстречу, и кости тех, кому он не явился, по-прежнему где-то здесь, в песке, хранят свои тайны и секреты, не надеясь, что кому-то откроют их.
Вода заканчивается немного позже пищи - несмотря на то, что всадники куда крепче и выносливее, чем те, кто привел их сюда, им все же нужна вода и еда ради поддержания хотя бы искры жизни в телах, которые они сейчас контролируют, но это путешествие не из тех, которые можно проделать с комфортом. Убар открывается только тем, кто готов - готов оставить последнюю ступень, спускаясь в царство, лишенное жизни.
У тех, кто следует пути, избранному для них силой, их породившей, кончаются силы - даже у них.
Щеки ввалились, глаза глубоко запали, почти теряясь в темных кругах под ними. Обветренная кожа облезает струпьями, ярко-розовая, будто вымоченная в отваре свежих ягод. Губы потрескались, лица шелушатся, как и кисти рук, голые ноги, плечи.
С каждым шагом верблюда ветер с песком соскабливает его немного жизни со скелетов, пока скрытых под плотью - но они идут вперед, то верхом, то шагая рядом с верблюдом, держась за его посеребренную сбрую, не давая себе заснуть, чтобы не дать вернуться тем, кому не удалось бы зайти так далеко.
Родерика гонит вперед уверенность в себе - та, которая не снилась даже человеку, называющему себя главой рода там, далеко.
Он знает, что доберется до места назначения - и знает, что убьет любого, кто станет на его пути.
Их пути - потому что с этой женщиной, чьи босые ноги ступают по песку день и ночь в такт его шагам, у них все общее, и в этом их сила, которую не могут ни осознать, ни подчинить те слабаки, боящиеся стать сильнее, взять свое.
Все, что ему нужно - это еще больше силы, и он может стать сильнее, может получить это, потому что есть третий элемент, потерянный теми неудачниками.
С его помощью все изменится.
Их станет трое - и те двое проиграют, и проиграют окончательно.
Их станет трое - и даже Хель не сможет противостоять им.
И когда впереди, будто мираж, которых здесь, по эту сторону реальности, не бывает, встают белые стены Убара, Родерик усмехается своей женщине, ловит ее ответную ухмылку.
Пустыня не могла не подчиниться им.
Вблизи мираж обращается дымкой: высокие белые стены на глазах превращаются в руины, колонны, покрытые цветной мозаикой, рассыпаются в прах, широкие мраморные ступени, мрамор для которых был привезен из долин Савы, темнеют, покрываются песком.
Роскошные фонтаны высыхают, их вычурные чаши и фигурные украшения покрываются плесенью, стремительно высыхающей на солнце, а затем трескаются, валятся на плиты площадей. Сады, поражающие благоуханием и разнообразием, сгнивают, обращаются в тлен, оставляя сухую растрескавшуюся землю, которая ничего больше не может родить.
Из дворцов, ранее достойных богов, выглядывают те, кто ныне сторожит память об Убаре - невысокие смуглолицые мужчины с суровыми выражениями на лицах.
Верблюд снова опускается на колени, затем заваливается набок - его миссия выполнена, он привел тех, кого должен был, и убарцы знают, что сулит его появление.
Они выходят к широкому обвалу на месте когда-то прекрасных ворот, смотрят на подходящих - мужчину и женщину в истрепанных одеждах, уверенно, рука об руку шагающих по песку.
Те, кто был обещан. Те, кто навсегда похоронят саму память об Убаре.
Верховный жрец, отличающийся от прочих лишь белым платком на голове, выходит вперед:
- Зачем вы пришли? - спрашивает он гортанно и резко, и эхо его голоса разносится по развалинам.